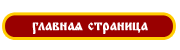 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
Наши баннеры:
HTML-код различных вариантов баннеров находится здесь. |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |

|
| Ф. М. Достоевский. "Братья
Карамазовы". О юноше брате старца Зосимы.
а) О юноше брате старца 3осимы. Возлюбленные отцы и учители, родился я в далекой губернии северной, в городе В., от родителя дворянина, но не знатного и не весьма чиновного. Скончался он, когда было мне всего лишь два года отроду, и не помню я его вовсе. Оставил он матушке моей деревянный дом небольшой и некоторый капитал, не великий, но достаточный, чтобы прожить с детьми не нуждаясь. А было нас всего у матушки двое: я, Зиновий, и старший брат мой, Маркел. Был он старше меня годов на восемь, характера вспыльчивого и раздражительного, но добрый, не насмешливый, и странно как молчаливый, особенно в своем доме, со мной, с матерью и с прислугой. Учился в гимназии хорошо, но с товарищами своими не сходился, хотя и не ссорился, так по крайней мере запомнила о нем матушка. За полгода до кончины своей, когда уже минуло ему семнадцать лет, повадился он ходить к одному уединенному в нашем городе человеку, как бы политическому ссыльному, высланному из Москвы в наш город за вольнодумство. Был же этот ссыльный не малый ученый и знатный философ в университете. Почему-то он полюбил Маркела и стал принимать его. Просиживал у него юноша целые вечера, и так во всю зиму, доколе не потребовали обратно ссыльного на государственную службу в Петербург, по собственной просьбе его, ибо имел покровителей. Начался великий пост, а Маркел не хочет поститься, бранится и над этим смеется: "всё это бредни, говорит, и нет никакого и Бога", так что в ужас привел и мать и прислугу, да и меня малого, ибо хотя был я и девяти лет всего, но, услышав слова сии, испугался очень и я. Прислуга же была у нас вся крепостная, четверо человек, все купленные на имя знакомого нам помещика. Еще помню, как из сих четверых продала матушка одну, кухарку Афимью, хромую и пожилую, за шестьдесят рублей ассигнациями, а на место ее наняла вольную. И вот на шестой неделе поста стало вдруг брату хуже, а был он и всегда нездоровый, грудной, сложения слабого и наклонный к чахотке; роста же не малого, но тонкий и хилый, лицом же весьма благообразен. Простудился он что ли, но доктор прибыл и вскоре шепнул матушке, что чахотка скоротечная, и что весны не переживет. Стала мать плакать, стала просить брата с осторожностию (более для того, чтобы не испугать его), чтобы поговел и причастился святых божиих таин, ибо был он тогда еще на ногах. Услышав рассердился и выбранил храм божий, однако задумался: догадался сразу, что болен опасно и что потому-то родительница и посылает его, пока силы есть, поговеть и причаститься. Впрочем и сам уже знал, что давно нездоров, и еще за год пред тем проговорил раз за столом мне и матери хладнокровно: "не жилец я на свете меж вами, может и года не проживу", и вот словно и напророчил. Прошло дня три, и настала страстная неделя. И вот брат со вторника утра пошел говеть. "Я это, матушка, собственно для вас делаю, чтоб обрадовать вас и успокоить", ─ сказал он ей. ─ Заплакала мать от радости, да и с горя: "знать близка кончина его. коли такая в нем вдруг перемена". Но не долго походил он в церковь, слег, так что исповедывали и причастили его уже дома. Дни наступили светлые, ясные, благоуханные, Пасха была поздняя. Всю-то ночь он, я помню, кашляет, худо спит, а на утро всегда оденется и попробует сесть в мягкие кресла. Так и запомню его: сидит тихий, кроткий, улыбается, сам больной, а лик веселый, радостный. Изменился он весь душевно ─ такая дивная началась в нем вдруг перемена! Войдет к нему в комнату старая нянька: "позволь, голубчик, я и у тебя лампадку зажгу пред образом". А он прежде не допускал, задувал даже. "Зажигай, милая, зажигай, изверг я был, что претил вам прежде. Ты Богу лампадку зажигая молишься, а я на тебя радуясь молюсь. Значит одному Богу и молимся". Странными казались нам эти слова, а мать уйдет к себе и всё плачет, только к нему входя обтирала глаза и принимала веселый вид. "Матушка, не плачь, голубушка, говорит, бывало, много еще жить мне, много веселиться с вами, а жизнь-то, жизнь-то веселая, радостная!" ─ "Ах милый, ну какое тебе веселье, когда ночь горишь в жару да кашляешь, так что грудь тебе чуть не разорвет". ─ "Мама, ─ отвечает ей, ─ не плачь, жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать завтра же и стал бы на всем свете рай". И дивились все словам его, так он это странно и так решительно говорил; умилялись и плакали. Приходили к нам знакомые: "милые говорит, дорогие, и чем я заслужил, что вы меня любите, за что вы меня такого любите, и как я того прежде не знал, не ценил". Входящим слугам говорил поминутно: "Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, да и стою ли я того, чтобы служить-то мне? Если бы помиловал Бог и оставил в живых, стал бы сам служить вам, ибо все должны один другому служить". Матушка слушая качала головой: "дорогой ты мой, от болезни ты так говоришь". ─ "Мама, радость моя, говорит, нельзя чтобы не было господ и слуг, но пусть же и я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они мне. Да еще скажу тебе, матушка, что всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех". Матушка так даже тут усмехнулась, плачет и усмехается: "Ну и чем это ты, говорит, пред всеми больше всех виноват? Там убийцы, разбойники, а ты чего такого успел нагрешить, что себя больше всех обвиняешь?" ─ "Матушка, кровинушка ты моя, говорит (стал он такие любезные слова тогда говорить, неожиданные), кровинушка ты моя милая, радостная, знай, что воистину всякий пред всеми за всех и за всё виноват. Не знаю я, как истолковать тебе это, но чувствую, что это так до мучения. И как это мы жили, сердились и ничего не знали тогда? Так он вставал со сна, каждый день всё больше и больше умиляясь и радуясь, и весь трепеща любовью. Приедет бывало доктор, ─ старик немец Эйзеншмидт ездил: "Ну что, доктор, проживу я еще денек-то на свете? ─ шутит бывало с ним. ─ "Не то, что день, и много дней проживете, ─ ответит бывало доктор, ─ и месяцы, и годы еще проживете", ─ "Да чего годы, чего месяцы! ─ воскликнет, бывало, ─ что тут дни-то считать, и одного дня довольно человеку, чтобы всё счастие узнать. Милые мои, чего мы ссоримся, друг пред другом хвалимся, один на другом обиды помним: прямо в сад пойдем и станем гулять и резвиться, друг друга любить и восхвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять". ─ "Не жилец он на свете, ваш сын", промолвил доктор матушке, когда провожала она его до крыльца, "он от болезни впадает в помешательство". Выходили окна его комнаты в сад, а сад у нас был тенистый, с деревьями старыми, на деревьях завязались весенние почки, прилетели ранние птички, гогочут, поют ему в окна. И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просить у них прощения: "Птички божие, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил". Этого уж никто тогда не мог понять, а он от радости плачет: "да, говорит, была такая божия слава кругом меня: птички, деревья, луга, небеса, один я жил в позоре, один всё обесчестил, а красы и славы не приметил вовсе". ─ "Уж много ты на себя грехов берешь", плачет бывало матушка. ─ "Матушка, радость моя, я ведь от веселья, а не от горя это плачу; мне ведь самому хочется пред ними виноватым быть, растолковать только тебе не могу, ибо не знаю, как их и любить. Пусть я грешен пред всеми, да за то и меня все простят, вот и рай. Разве я теперь не в раю?" И много еще было, чего и не припомнить, и не вписать. Помню, однажды, вошел я к нему один, когда никого у него не было. Час был вечерний, ясный, солнце закатывалось и всю комнату осветило косым лучом. Поманил он меня, увидав, подошел я к нему, взял он меня обеими руками за плечи, глядит мне в лицо умиленно, любовно; ничего не сказал, только поглядел так с минуту: "Ну, говорит, ступай теперь, играй, живи за меня!" Вышел я тогда и пошел играть. А в жизни потом много раз припоминал уже со слезами, как он велел мне жить за себя. Много еще говорил он таких дивных и прекрасных, хотя и непонятных нам тогда слов. Скончался же на третьей недели после Пасхи, в памяти, и хотя и говорить уже перестал, но не изменился до самого последнего своего часа: смотрит радостно, в очах веселье, взглядами нас ищет, улыбается нам, нас зовет. Даже в городе много говорили о его кончине. Потрясло меня всё это тогда, но не слишком, хоть и плакал я очень, когда его хоронили. Юн был, ребенок, но на сердце осталось всё неизгладимо, затаилось чувство. В свое время должно было всё восстать и откликнуться. Так оно и случилось. |
|
|
