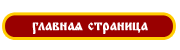 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
Наши баннеры:
HTML-код различных вариантов баннеров находится здесь. |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |

|
| Ф. М. Достоевский. "Братья
Карамазовы". Глава "Верующие бабы".
Многие из теснившихся к нему женщин заливались слезами умиления и восторга, вызванного эффектом минуты; другие рвались облобызать хоть край одежды его, иные что-то причитали. Он благословлял всех, а с иными разговаривал. Кликушу он уже знал, ее привели не издалека, из деревни всего верст за шесть от монастыря, да и прежде ее водили к нему. ─ А вот далекая! ─ указал он на одну еще вовсе не старую женщину, но очень худую и испитую, не то что загоревшую, а как бы всю почерневшую лицом. Она стояла на коленях и неподвижным взглядом смотрела на старца. Во взгляде ее было что-то как бы исступленное. ─ Издалека, батюшка, издалека, отселева триста верст. Издалека, отец, издалека, ─ проговорила женщина нараспев, как-то покачивая плавно из стороны в сторону головой и подпирая щеку ладонью. Говорила она как бы причитывая. Есть в народе горе молчаливое и многотерпеливое; оно уходит в себя и молчит. Но есть горе и надорванное: оно пробьется раз слезами и с той минуты уходит в причитывания. Это особенно у женщин. Но не легче оно молчаливого горя. Причитания утоляют тут лишь тем, что еще более растравляют и надрывают сердце. Такое горе и утешения не желает, чувством своей неутолимости питается. Причитания лишь потребность раздражать беспрерывно рану. ─ По мещанству надо-ть быть?─ продолжал, любопытно в нее вглядываясь, старец. ─ Городские мы, отец, городские, по крестьянству мы, а городские, в городу проживаем. Тебя повидать, отец, прибыла. Слышали о тебе, батюшка, слышали. Сыночка младенчика схоронила, пошла молить Бога. В трех монастырях побывала, да указали мне: "Зайди, Настасьюшка, и сюда, к вам то-есть, голубчик, к вам". Пришла, вчера у стояния была, а сегодня и к вам. ─ О чем плачешь-то? ─ Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку. Последний сыночек оставался, четверо было у нас с Никитушкой, да не стоят у нас детушки, не стоят, желанный, не стоят. Трех первых схоронила я, не жалела я их очень-то, а этого последнего схоронила и забыть его не могу. Вот точно он тут предо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку аль на сапожки и взвою. Разложу что после него осталось, всякую вещь его, смотрю и вою. Говорю Никитушке, мужу-то моему: отпусти ты меня, хозяин, на богомолье сходить. Извозчик он, не бедные мы, отец, не бедные, сами от себя извоз ведем, всё свое содержим, и лошадок и экипаж. Да на что теперь нам добро? Зашибаться он стал без меня, Никитушка-то мой, это наверно что так, да и прежде того: чуть я отвернусь, а уж он и ослабеет. А теперь и о нем не думаю. Вот уж третий месяц из дому. Забыла я, обо всем забыла и помнить не хочу; а и что я с ним теперь буду? Кончила я с ним, кончила, со всеми покончила. И не глядела бы я теперь на свой дом и на свое добро, и не видала б я ничего вовсе! ─ Вот что, мать, ─ проговорил старец, ─ однажды древний великий святой увидел во храме такую же как ты плачущую мать и тоже по младенце своем, по единственном, которого тоже призвал господь. "Или не знаешь ты, сказал ей святой, сколь сии младенцы пред престолом божиим дерзновенны? Даже и нет никого дерзновеннее их в царствии небесном: Ты, господи, даровал нам жизнь, говорят они Богу, и только лишь мы узрели ее, как ты ее у нас и взял назад. И столь дерзновенно просят и спрашивают, что господь дает им немедленно ангельский чин. А посему, молвил святой, и ты радуйся, жено, а не плачь, и твой младенец теперь у господа в сонме ангелов его пребывает". Вот что сказал святой плачущей жене в древние времена. Был же он великий святой и неправды ей поведать не мог. Посему знай и ты, мать, что и твой младенец наверно теперь предстоит пред престолом господним, и радуется и веселится, и о тебе Бога молит. А потому и ты плачь, но радуйся. Женщина слушала его, подпирая рукой щеку и потупившись. Она глубоко вздохнула. ─ Тем самым и Никитушка меня утешал, в одно слово как ты говорил: "Неразумная ты, говорит, чего плачешь, сыночек наш наверно теперь у господа Бога вместе с ангелами воспевает". Говорит он это мне, а и сам плачет, вижу я, как и я же плачет. "Знаю я, говорю, Никитушка, где ж ему и быть коль не у господа Бога, только здесь-то, с нами-то его теперь, Никитушка, нет, подле-то, вот как прежде сидел!" И хотя бы я только взглянула на него лишь разочек, только один разочек на него мне бы опять поглядеть, и не подошла бы к нему, не промолвила, в углу бы притаилась, только бы минуточку едину повидать, послыхать его, как он играет на дворе, придет бывало крикнет своим голосочком: "Мамка, где ты?" Только б услыхать-то мне, как он по комнате своими ножками пройдет разик, всего бы только разик, ножками-то своими тук-тук, да так часто, часто, помню, как бывало бежит ко мне, кричит да смеется, только б я его ножки-то услышала, услышала бы, признала! Да нет его, батюшка, нет, и не услышу его никогда! Вот его поясочек, а его-то и нет, и никогда-то мне теперь не видать, не слыхать его!.. Она вынула из-за пазухи маленький позументный поясочек своего мальчика и только лишь взглянула на него, так и затряслась от рыданий, закрыв пальцами глаза свои, сквозь которые потекли вдруг брызнувшие ручьем слезы. ─ А это, ─ проговорил старец, ─ это древняя "Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет", и таковой вам матерям предел на земле положен. И не утешайся, и не надо тебе утешаться, не утешайся и плачь, только каждый раз, когда плачешь, вспоминай неуклонно, что сыночек твой ─ есть единый от ангелов божиих, оттуда на тебя смотрит и видит тебя и на твои слезы радуется и на них господу Богу указывает. И надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость, и будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердечного очищения, от грехов спасающего. А младенчика твоего помяну за упокой, как звали-то? ─ Алексеем, батюшка. ─ Имя-то милое. На Алексея человека божия? ─ Божия, батюшка, божия, Алексея человека божия! ─ Святой-то какой! Помяну, мать, помяну и печаль твою на молитве вспомяну и супруга твоего за здравие помяну. Только его тебе грех оставлять. Ступай к мужу и береги его. Увидит оттуда твой мальчик, что бросила ты его отца, и заплачет по вас: зачем же ты блаженство-то его нарушаешь? Ведь жив он, жив, ибо жива душа вовеки, и нет его в доме, а он невидимо подле вас. Как же он в дом придет, коль ты говоришь, что возненавидела дом свой? К кому ж он придет, коль вас вместе, отца с матерью, не найдет? Вот он снится теперь тебе, и ты мучаешься, а тогда он тебе кроткие сны пошлет. Ступай к мужу, мать, сего же дня ступай. ─ Пойду, родной, по твоему слову пойду. Сердце ты мое разобрал. Никитушка, ты мой Никитушка, ждешь ты меня, голубчик, ждешь! ─ начала было причитывать баба, но старец уже обратился к одной старенькой старушонке, одетой не по-страннически, а по-городски. По глазам ее видно было, что у нее какое-то дело и что пришла она нечто сообщить. Назвалась она унтер-офицерскою вдовой, не издалека, всего из нашего же города. Сыночек у ней Васенька, где-то в комиссариате служил, да в Сибирь поехал, в Иркутск. Два раза оттуда писал, а тут вот уж год писать перестал. Справлялась она о нем, да по правде не знает, где и справиться-то. ─ Только и говорит мне намедни Степанида Ильинишна Бедрягина, купчиха она, богатая: возьми ты, говорит, Прохоровна, и запиши ты, говорит, сыночка своего в поминанье, снеси в церковь, да и помяни за упокой. Душа-то его, говорит, затоскует, он и напишет письмо. И это, говорит, Степанида Ильинишна, как есть верно, многократно испытано. Да только я сумлеваюсь... Свет ты наш, правда оно аль неправда, и хорошо ли так будет? ─ И не думай о сем. Стыдно это и спрашивать. Да и как это возможно, чтобы живую душу да еще родная мать за упокой поминала! Это великий грех, колдовству подобно, только по незнанию твоему лишь прощается. А ты лучше помоли царицу небесную, скорую заступницу и помощницу о здоровьи его, да чтоб и тебя простила за неправильное размышление твое. И вот что я тебе еще скажу, Прохоровна: или сам он к тебе вскоре обратно прибудет, сынок твой, или наверно письмо пришлет. Так ты и знай. Ступай и отселе покойна будь. Жив твой сынок, говорю тебе. ─ Милый ты наш, награди тебя Бог, благодетель ты наш, молебщик ты за всех нас и за грехи наши... А старец уже заметил в толпе два горящие, стремящиеся к нему взгляда изнуренной, на вид чахоточной, хотя и молодой еще крестьянки. Она глядела молча, глаза просили о чем-то, но она как бы боялась приблизиться. ─ Ты с чем, родненькая? ─ Разреши мою душу, родимый, ─ тихо и не спеша промолвила она, стала на колени и поклонилась ему в ноги. ─ Согрешила, отец родной, греха моего боюсь. Старец сел на нижнюю ступеньку, женщина приблизилась к нему, не вставая с колен. ─ Вдовею я, третий год, ─ начала она полушепотом, сама как бы вздрагивая. ─ Тяжело было замужем-то, старый был он, больно избил меня. Лежал он больной; думаю я, гляжу на него: а коль выздоровеет, опять встанет, что тогда? И вошла ко мне тогда эта самая мысль... ─ Постой, ─ сказал старец и приблизил ухо свое прямо к ее губам. Женщина стала продолжать тихим шепотом, так что ничего почти нельзя было уловить. Она кончила скоро. ─ Третий год? ─ спросил старец. ─ Третий год. Сперва не думала, а теперь хворать начала, тоска пристала... ─ Издалека? ─ За пятьсот верст отселева. ─ На исповеди говорила? ─ Говорила, по два раза говорила. ─ Допустили к причастию-то? ─ Допустили. Боюсь; помирать боюсь. ─ Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе ─ и всё Бог простит. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простил господь воистину кающемуся. Да и совершить не может, совсем, такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную божью любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил божью любовь? О покаянии лишь заботься, непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит. А об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно. Иди же и не бойся. На людей не огорчайся, за обиды не сердись. Покойнику в сердце всё прости, чем тебя оскорбил, примирись с ним воистину. Коли каешься, так и любишь. А будешь любить, то ты уже божья... Любовью всё покупается, всё спасается. Уж коли я, такой же как и ты человек грешный, над тобой умилился и пожалел тебя, кольми паче Бог. Любовь такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь. Ступай и не бойся. Он перекрестил ее три раза, снял с своей шеи и надел на нее образок. Она молча поклонилась ему до земли. Он привстал и весело поглядел на одну здоровую бабу с грудным ребеночком на руках. ─ Из Вышегорья, милый. ─ Шесть верст однако отсюда, с ребеночком томилась. Чего тебе? ─ На тебя глянуть пришла. Я ведь у тебя бывала, аль забыл? Не велика же в тебе память, коли уж меня забыл. Сказали у нас, что ты хворый, думаю, что ж, я пойду его сама повидаю: вот и вижу тебя, да какой же ты хворый? Еще двадцать лет проживешь, право, Бог с тобою! Да и мало ли за тебя молебщиков, тебе ль хворать? ─ Спасибо тебе за всё, милая. ─ Кстати будет просьбица моя не великая: вот тут шестьдесят копеек, отдай ты их, милый, такой, какая меня бедней. Пошла я сюда, да и думаю: лучше уж чрез него подам, уж он знает, которой отдать. ─ Спасибо, милая, спасибо, добрая. Люблю тебя. Непременно исполню. Девочка на руках-то? ─ Девочка, свет, Лизавета. ─ Благослови господь вас обеих, и тебя и младенца Лизавету. Развеселила ты мое сердце, мать. Прощайте, милые, прощайте, дорогие, любезные. Он всех благословил и глубоко всем поклонился. Из: Ф.М. Достоевский БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ |
|
|
